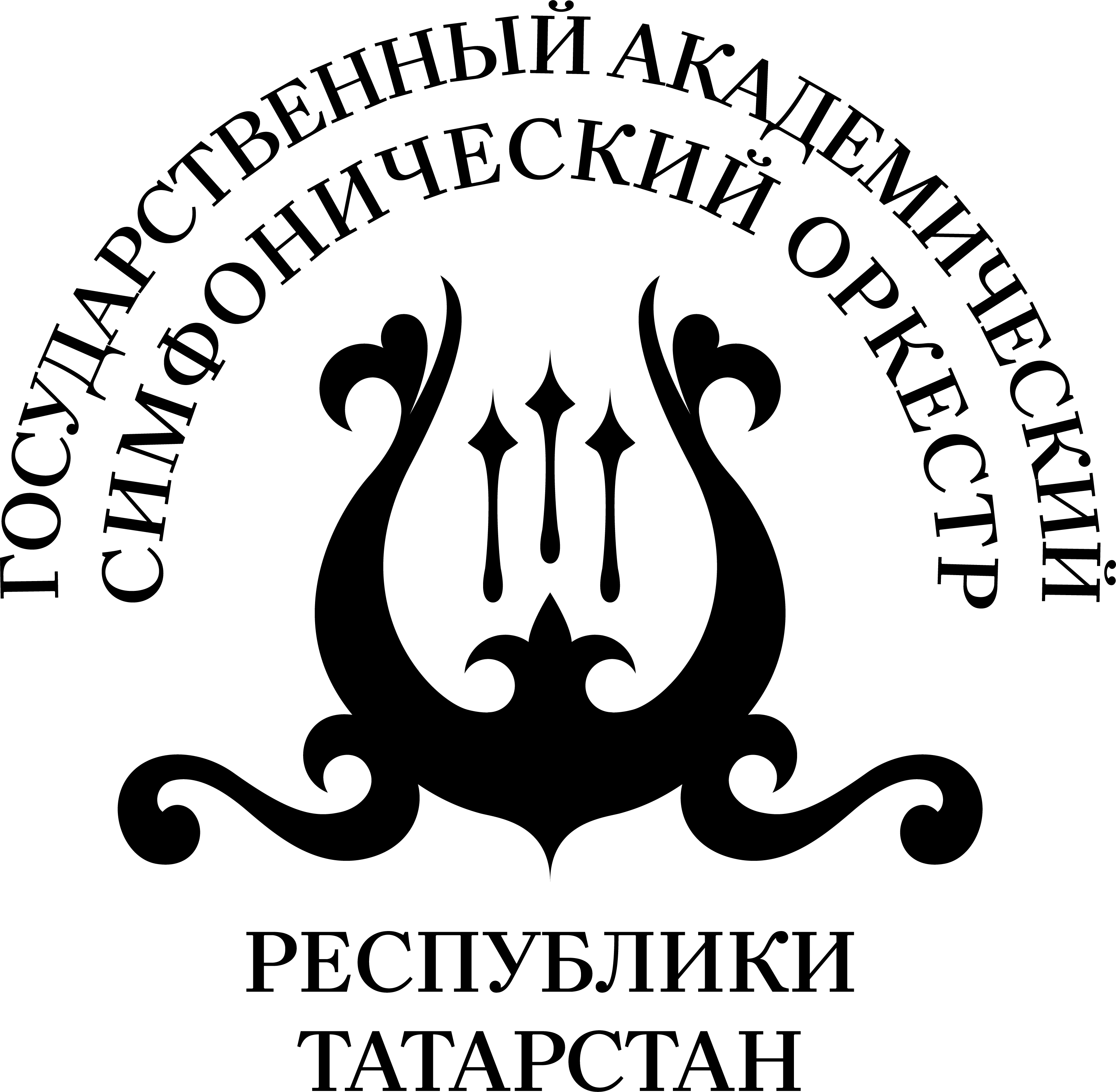Зорро за роялем

Мацуев — уникальная фигура, и за те 15 лет, что мы с ним знакомы, могу выделить главное в нем качество и как мужчины и как художника — стабильность. Он не шарахается в стороны, не меняет взглядов и убеждений, не теряет и не предает друзей. Абсолютно безотказен. Он к твоим услугам в любое время суток. Со всеми знаком, о любом может рассказать. И все привыкли, что на него всегда и везде можно положиться. Не секрет, что в 1990-е страна растеряла нежную прослойку филармонической публики, которой в провинции было просто не выжить — ее никак не подпитывали, музыканты не приезжали, было не до того. Так вот поднимали эту публику «из руин» только посредством такого «допинга», как Мацуев: все двухтысячные это был единственный пианист, на которого в глубинке можно было продать полный зал. И только потом по торной дорожке шли все остальные... С ума сойти — Денису уже сорок.
Я не умею говорить слово «нет»
— Ну как, Денис, сорок лет незаметно подступили?
— Да что вы, я и пятьдесят не замечу. Сумасшествие продолжается! И отмечать не буду. Потому что 11 июня буду в Токио с оркестром Юрия Темирканова, эти гастроли я запланировал ещев 2010-м и думать не думал про какой-то там день рождения. А сейчас расписываю уже 2020 год.
— Вы романтик в чистом виде. Но сколь трудно выживать романтику в неромантические времена?
— Потому что каждый день получаю огромное удовольствие от того, что выхожу на сцену. В этом сезоне — начиная с сентября — я это сделал уже 229 раз! И еще три месяца есть до конца сезона. Понятно, что не будь сцены — романтизма в жизни было бы куда меньше. Он остался бы только в отношениях с друзьями, а также в отдельных внезапных, импровизационных поступках людей, которых вроде бы совсем не ожидаешь в наши дни, но поступки эти имеют место, особенно в регионах России.
— То есть ваше любимое время суток — вечер?
— Разумеется. Я счастлив, когда я на сцене, — так было в четыре года на подготовишках в музыкальной школе, так это осталось и в сорок.
— И не боялись сцены никогда?
— Да ну что вы! Не то, что не боялся — рвался! Мама потом рассказывала, как она вела меня на экзамен в школу, а я прыгал всю дорогу от счастья; одно только предвкушение игры приводило в неописуемый восторг. Все бурлило внутри: лишь бы приблизить этот миг. И ровно то же испытываю сейчас: три часа осталось до концерта, опять прыгаю, в сердце все кипит!
— Что вообще выручает в трудных жизненных ситуациях?
— Природный оптимизм, доставшийся в наследство от бабушек и дедушек: что бы ни случилось — все равно в итоге все будет хорошо. А ситуаций трудных было много. Взять, к при меру, переезд в 1991 году из родного Иркутска в неизвестную Москву... Хотя, скажу честно, 90-е годы — самое счастливое и гениальное время для меня.
— Несмотря на то что жили в жуткой однокомнатной квартире с алкоголиком через стенку?
— А я до сих пор не знаю, что такое «комфорт», «особые условия», — мне что тогда было плевать на это, что сейчас. Главное, что родители были рядом и друзья. Помню свои первые гастроли в сорока странах мира, победы на международных конкурсах, выступления с лучшими дирижера- ми... Другой темпоритм начался! Безусловно, я переживал, что происходило тогда в стране. Никогда не забуду, когда мы с Борей Андриановым вернулись из ЮАР, став там победителями в конкурсе, у входа в консерваторию у нас брал интервью Святослав Бэлза. А у ТАСС на Никитской откровенно стреляли, но мы не обращали на это внимания, потому что привыкли, и продолжали себе интервью дальше. Или с тем же Борей — как шпана — ходили в 1993-м к Белому дому, нам просто интересно все было — как в войнушку играть... 1990-е годы — беспокойное время, но мы этого не понимали, потому что оно было наполнено невероятным драйвом, экспрессией, непредсказуемостью и внутренним ощущением, что все еще только начинается.
— Вы сказали: на комфорт всегда было наплевать... Но человек же становится старше, матереет — красивые вещи, красивое окружение...
— Вопрос не по адресу. Посмотрите на мои сандалии: да мне вообще по барабану, на что сейчас мода.
— То есть, когда общаешься с Рахманиновым...
— До всего этого нет дела. Заматереть? Я со временем ни разу себя не поймал на мысли, что начинаю успокаиваться. Если поймаю — это будет тревожный знак.
— И все-таки возвращаясь к 229 концертам в сезон...
— Я не ставлю специально никаких рекордов. Мне все говорят: «Ну кому нужны эти твои рекорды? Ты кого хочешь опередить? Ты и так уж опередил всех пианистов — никто этого не делает. Еще Гергиев может за 300 концертов в год продирижировать, но из пианистов — никто!». Но дело-то не в этом. Повторяю, для меня сцена — настоящая жизнь, она не может утомлять. Ну а кроме того... как и двадцать лет назад, я не умею говорить слова «нет»: если я понимаю, что меня ждут, то готов ради одного концерта лететь через весь земной шар. Это для меня закон. Кстати, сцена — единственное место, где не работает телефон и нет Интернета. Только ты и великая музыка.
— А публика?
— Публика всегда была и будет главным кри- тиком, ценителем и первым знатоком, которому я всегда отдаюсь весь без остатка.
— Помнится, вы даже ввели ненароком термин «сценотерапия». Она реально лечит?
— В этом году я несколько раз выходил в зал с температурой 39,6; так вот за два концерта вылечился — хотя, понятно, и лекарства были. «Доктор, что мне делать с этим ужасным гриппом?» — «Я вам прописываю два концерта». Но, понятно, что бравировать и злоупотреблять этим нельзя. Организм не вечен, с температурой запрещено выходить на публику, можно запросто испортить себе аппарат — сухожилия, нервы в руках... Так что эти мои «подвиги» не пособие для молодых музыкантов. Тут на меня равняться не надо.
«Если делиться интимным только с собой, недолго и с ума сойти»
— Глядя на вас, люди часто думают, что вы всего в жизни добились легко и просто... Но ведь были острые моменты?
— Они были, но, слава богу, при моем темпе- раменте всегда было движение, и я видел, КУДА идти. Сколько концертов выучить, какой репертуар играть... Я никогда не вооружался словом «карье- ра», но ведь понятно, что карьера концертирую- щего пианиста в том, чтобы публика приходила на твои концерты. Хотя я знаю музыкантов, которые садятся в зале и играют для себя...
— И вы их не осуждаете?
— Да как я могу их осуждать? Все люди разные. У кого-то с нервами не в порядке, выходят и не могут сосредоточиться. Или кто-то считает, что на концерте нарушается интимный процесс, поскольку чем-то сокровенным приходится делиться со зрителем, который нередко и в зал-то пришел первый раз. Отчасти я могу с этим согласиться, но не до конца. Если будешь делиться интимным только с самим собой, то так недолго и с ума сойти. Не лучше ли найти кого-то? Мы с Михаилом Васильевичем Плетневым часто на эту тему размышляли, он однажды сказал: «Я хотел бы пригласить на сольный концерт шесть человек, живущих в мире, это очень близкие мне люди, на- деюсь, они поймут каждую мою ноту». Я насчитал таких около пятнадцати — людей, которым я могу полностью довериться. Но после этого я все равно вышел в зал на пять тысяч, потому что я проводник через время, и меня не остановить.
— Солисты часто брюзжат по поводу публики...
— Да публика в России самая лучшая. Только что прошел грандиозный тур камерного оркестра «Вена–Берлин» — там собраны концертмейстеры Венского и Берлинского филармонических оркестров, — и знаете, что их поразило помимо сплошных аншлагов? Колоссальное количество молодежи в зале. Они такого не видели ни в Берлине, ни в какой другой столице мира: там-то одни седые головы сидят. Разве это не замечательная тенденция?
— Только недавно отмечали 35-летие «Виртуозов Москвы», и звучали слова: в чем их феномен? И сколько лет уже пишут про феномен Мацуева...
— А вы знаете, что в Карнеги-холле на моем концерте в этом году появились спекулянты? «Это абсолютно забытое слово со времен Горовица», — констатировала «Нью-Йорк таймс». А если серьезно, терпеть не могу отвечать про себя — отчего да почему... Просто брал всегда и ехал — не важно куда, не важно на чем, не важно, в какой зал, не важно, для какой публики и за гонорар или без оного — такие случаи были и есть. Конечно, Россия отличается от «остального мира», в котором можно достаточно быстро сделать карьеру. В России канонов «продвижения» не существует. А если и говорить о каком-то настоящем успехе — то это внедрение моего фестиваля «Крещендо», т.е. молодых талантливых музыкантов, в филармоническую афишу страны — это главное, что я делал и делаю, поверьте. А не то: какой там Мацуев, чего он достиг...
- Денис, как-то ощущаете, что вы по гороскопу Близнецы?
— Конечно! Во мне очень много людей. И они часто спорят, причем иногда дело доходит до конфликта. А спор в разных плоскостях — «оптимист или пессимист» и так далее...
— «Романтик или администратор»...
— Администратор я просто никакой — это огромное заблуждение, что я якобы могу повторить подвиг Валерия Гергиева: он-то все-таки руководит и театром, и оркестром, это совершенно иная стезя. А для организации фестивалей необязательно быть администратором — тут главное иметь друзей, которые всегда рады к тебе приехать. Это все удачная импровизация. Пришла идея — взяли и реализовали. Вот Гергиеву я взял и предложил вести с ним концерт-открытие конкурса им. Чайковского 15 июня... Нет нужды говорить, что конкурс сегодня вышел на недосягаемую высоту по значению и по дальнейшим перспективам лауреатов.
— Главное, чтобы эти лауреаты были.
— За фортепианный цех я вообще не бес- покоюсь, зная, кто там будет участвовать. На первую премию претендует минимум шесть человек. Такого яркого соцветия музыкантов давно не было.
— Денис, вы часто подчеркивали, что так и не стали по мироощущению москвичом, оставшись сибиряком. Сибиряк — это национальность?
— Конечно. С внутренним девизом «не обижай, помогай и делай добро». Это сибирское кредо, которое проявляется при первой же встрече с сибиряком в любом конце света — будь то Нью-Йорк, Лондон или Рио-де-Жанейро. Если выясняется, что человек из Сибири, да еще родом из Иркутска, — он автоматически становится моим родственником. Я никогда не терял контакт со своим домом: как вы знаете, в Иркутске каждый год проходит фестиваль «Звезды на Байкале», который становится все масштабнее — в этом году отмечаем его десятилетие. У нас уж кто только не выступал — и Зубин Мета с оркестром Израильской филармонии, и оркестр «Вена–Берлин». Вот тут ты и понимаешь, что талант не знает границ и музыка сейчас — в момент политических коллизий — обладает самым важным терапевтическим эффектом. Да о чем говорить, если у нас после Иркутска было шесть концертов с Зубином Метой в Израиле. И на каждом евреи сидели вместе с арабами. Это меня так поразило!.. Зубин Мета — великий миротворец.
— Кстати, вы до сих пор запрещаете делать ремонт в своей иркутской квартире?
— Запрещаю. Та же кровать, стол, игрушки, рояль — все стоит как было.
— Это навсегда осталось вашим главным домом?
— Абсолютно. Для меня счастье, когда я переступаю порог иркутской квартиры...
— А все оставшееся время приходится спать не в своей кровати?
— Я научился каждый день любить новую кровать. Это поначалу было непросто, но... к по- добному ритму теперь готов на долгие годы. Когда у меня спрашивают: «Где ты хочешь находиться через 20–30 лет?» — я незамедлительно отвечаю: «На сцене».
«Шопен не мой, но станет любимым»
— Как с возрастом меняется контакт с композиторами?
— Постоянно возникают разные виртуальные романы. Всегда соблюдаю периодичность: учу за год два новых концерта с оркестром и одну сольную программу, итого у меня 47 концертов и 19 сольных программ. И столько еще всего несыгранного... Но тут ни за какими рекордами не гонюсь. Если я не готов внутренне к произве- дению, то за него и не берусь. Нет, могу нотами завтра сыграть это на сцене, но будет плохо, не по-настоящему. Один из последних «романов» — концерты Брамса, которые уже плотно вошли в репертуар. Медленно начинаю подходить к Фредерику нашему Шопену. Совершенно не мой композитор, с которым никогда никакого контакта не было... Но потихонечку начинаем чувствовать друг друга, налаживать какие-то отношения, пусть пока и не на сцене.
— Это длительный процесс?
— Понимаете, у меня совершенно другой подход к традициям игры Шопена. Принято думать, что раз романтик — то ранимый и тонкий. И играть его виртуозно — значит, играть тихо. Но это не совсем так. Виртуозно можно сыграть, скажем, паузу. Поверьте, паузу сыграть гораздо сложнее, чем традиционное быстрое «виртуозное место». Если бы Горовиц играл Шопена в своей манере на конкурсе им. Чайковского, его бы скинули еще с отборочного тура. Потому что это антипрочтение. Так что нужно не смотреть на предрассудки, а руководствоваться своими подлинными ощущениями. Не удивлюсь, если скоро Шопен станет моим любимым композитором.
— Как-то вы сказали, что, как всякий рус- ский, являетесь невероятным лентяем — то есть ни заниматься на фортепиано, ни учить подолгу не будете?
— Я лентяй в том смысле, что не могу долго сидеть на одном месте. Не хочу говорить фразу «никогда не сидел долго за инструментом», этим нельзя бравировать, но...
— А как вы тогда учились в музыкалке?
— Мудрость моих родителей в том, что они быстро поняли: мне не нужно сидеть по нескольку часов и играть гаммы. Я не тратил на это время. Когда было надо — я мог выучить произведение за два дня, на что у моих сверстников уходили недели. Тот самый случай, когда родительский талант должен быть не меньше, чем у ребенка. Юная искорка должна развиваться постепенно, не надо внушать ребенку с 5 лет, что завтра у него будет Карнеги-холл, это плохо закончится. Переход от юного таланта к таланту глубокому и зрелому — огромное педагогическое искусство. Блестящий пример здесь — Женя Кисин...
— В чем вообще выражается эволюция в пианизме?
— Во-первых, технический прогресс бес- прецедентный: в 11 лет дети выходят играть «Мефистовальс» Листа или Третий концерт Прокофьева, причем это не цирковой номер, они чувствуют музыку по-настоящему. Сейчас идет совершенно уникальное поколение, которым по 10–12 лет: они рациональны в хорошем смысле слова. Понимают, что и на рояле нужно поза- ниматься, и почитать книжку, и сходить в кино, и быть в Интернете — у них на все есть время. Люди удивительной свободы — как на сцене, так и в жизни. Я вот, кстати, считаю, что самое важное — это сиюминутная одаренность во время концерта. Когда нота жива, не заготовлена. Как мне однажды Темирканов сказал: мы можем, конечно, на концерте повторить всё точь-в-точь, как мы это делали на репетиции, но мы таким об- разом убьем музыку. В умении импровизировать и раскрывается настоящий художник.
— Еще лет семь назад мы с вами крити- ковали российские «музыкальные реалии», говоря, что нет хороших концертных залов по стране, нет достойных инструментов...
— Сейчас, слава богу, дело сдвинулось с мертвой точки: хорошие залы построены или ре- конструированы в Петербурге, Белгороде, Омске, Пензе, Уфе, Красноярске, Новосибирске, строится новый зал в моем Иркутске. Прекрасная «Филармония-2» открыта в Москве, хотя понятно, что Москве нужен еще один полноценный концертный зал в центре. Что до инструментов — за последние годы в регионах — Тюмень, Челябинск, Владивосток, Воронеж, Ульяновск etc — появилось около 50 новых роялей, о которых я договорился лично с губернаторами или меценатами. Инструмент- то каждый стоит по 160 тысяч евро, и эти деньги надо как-то собрать... Причем важно не только «Стейнвей» купить, но и правильно его содержать, соблюдать температурно-влажностный режим, тогда он прослужит лет тридцать.
— Ваше мировоззрение всегда вертится вокруг слова «да». Вы не склонны критиковать действительность?
— Нет, извините, если обижают слабого или, скажем, женщину, я стоять в стороне не буду. Не то что критиковать, а надо будет подойти и дать по морде.
— Приходилось?
— Ну а как же? Вы не знаете, в каком районе я рос? Меня во дворе звали Зорро. Поначалу я вос- питывался дома, не ходил в детский сад, у меня были гувернантки, к тому же бабушки ради меня ушли с работы, окружив своей заботой. Короче, рос этаким принцем, маменькиным сыночком. Но в свободное время выходил во двор, надевал маску справедливости, по сути, являясь старостой двора и решая многие конфликты. Нас называли «бродовские», мы жили в центре. Шпана с окраин нас ненавидела, жуткие драки были. Где сейчас все эти бывшие друзья и живы ли они вообще? Но мне удавалось сгладить конфликты, проецируя гнев на футбольное или хоккейное поле. Лучше «драться» с мячом или шайбой, не правда ли?
— Ну и рост еще ваш внушительный — под два метра...
— Нет, в детстве я был маленьким, вымахал уже здесь, в Москве, в 15 лет.
— С дирижерской палочкой мы вас еще нескоро увидим?
— Все наши беды от того, что мы лезем не в свое дело. Мне пока не тесно в своей профессии, у меня такие планы!.. Шопен на пути — о чем вы говорите!
— Вы сказали, что не будете 40 лет праздновать. Но как-то же надо отметить...
— Ну так 23-го дам концерт в Кремле. Зал, безусловно, не для классической музыки. Я буду вторым пианистом, играющим там сольник. Первым был Ван Клиберн после триумфальной по- беды на конкурсе им. Чайковского. Так вышло, что в БЗК в это время будет идти конкурс им. Чайковского, так что свободен оказался только Кремль. Зато здесь соберутся все мои друзья- музыканты и даже приедет немецкий звукорежиссер, с которым работаем много лет, который сделает в Кремле акустику Карнеги-холла, это я гарантирую.
Ян СМИРНИЦКИЙ.
Ссылка на статью:
http://pressa.ru/ru/reader/#/magazines/mk-moskovskij-komsomolets/issues/120-2015/pages/9/
« назад