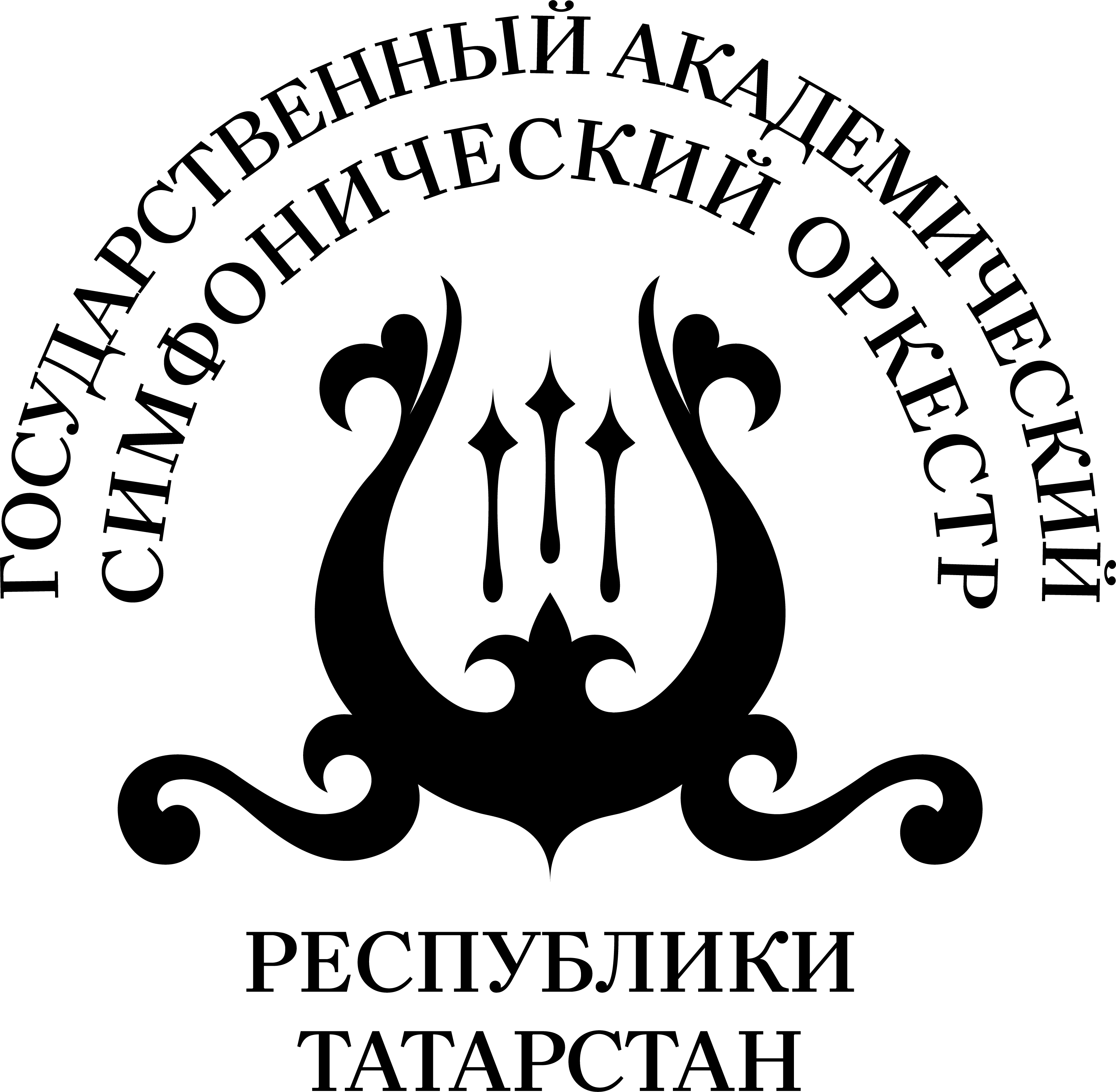Музыка возникала словно из воздуха

Госоркестр Татарстана отыскал русские мотивы у Моцарта и Брукнера

Интенсивность работы Государственного академического симфонического оркестре Республики Татарстан поражает не менее, чем ее качество. Только что «Труд» писал о программе шедевров русской музыки, которой казанцы открыли у себя дома традиционный, XIII фестиваль имени Рахманинова «Белая сирень». И вот – гастрольный вечер в московском «Зарядье»: великая австрийская музыка. Не менее близкая коллективу, знаменитому своим универсальным репертуаром.
Начали с Моцарта. Увертюра к опере «Дон Жуан» вызвала чувство, всегда бывающее от мастерского и увлеченного исполнения оперной преамбулы: отчего сейчас же не последует вся столь ярко обещанная «веселая драма»? Ну как отойти от магии этих «командорских» императивов меди, заставляющих струнные трепетать за Лепорелло и бросать гневные реплики за отчаянного заглавного героя? Впрочем, сам Моцарт немедленно «меняет сцену» на сумасшедшее кипение праздника. Если закрыть глаза – не верится, что перед тобой от силы три десятка музыкантов, настолько насыщена ткань звукового полотна, узор которого по ажурной филигранности напоминает драгоценное колье.
И тут же, как в кино, этот ажур сменяется вьюжным узорочьем 20-го концерта: мы уже не в Севилье, пусть и увиденной глазами венца, а где-то на снежной австрийской дороге, рядом с погруженным в тревожные думы путником – может, самим Моцартом, едущим из тихого Зальцбурга в манящую, но и пугающую имперской холодностью Вену навстречу испытаниям и надеждам. Графическая рафинированность оркестрового штриха казанцев нашла здесь адекватный ответ в стилистической чистоте игры юного, но уже крепко полюбившегося нашей публике американца Энджела Вонга, одного из триумфаторов прошлогоднего конкурса Чайковского. Опять же – не глядя на сцену, ловишь себя на ощущении, что внутри этого рояля запрятан даже не старинный хаммерклавир, а клавесин с его четко градуированной террасообразной динамикой и звонко летящим в пространство бисером нот. Но никакой музейной пыли, наоборот, эффект живого броска в дальнюю эпоху… из которой, впрочем, современный музыкант видит-слышит очень многое. Например – то, что моцартовские открытия через несколько десятилетий найдут продолжение в мятежных бетховенских сонатах-фантазиях: на эту связь пианист деликатно намекнул в одной из каденций финала.
А веселая цитата песни «Ах вы сени мои сени» в коде (может, случайность, а может и нет – дружил же Моцарт с русским посланником Разумовским), похоже, стала импульсом для экстравагантного, но органичного в этой программе биса – финала «Жар-Птицы» Стравинского. В рояльном переложении (если не ошибаюсь, авторства итальянца Гвидо Агости) и в пальцах солиста эта музыка обрела, кажется, даже больше импрессионистической фееричности, чем в оркестровом оригинале.
Ну и грандиозное завершение-эпицентр-кульминация программы: 9-я симфония Брукнера. Совсем не похожего на Моцарта. И в то же время родственного ему своей альпийской, снежной чистотой мелодических контуров, ослепительной красотой гармоний, чье сияние подобно солнечному свету, льющемуся с горных небес.
Музыка возникает словно из воздуха – струнники, кажется, даже не двигают смычками, из-под которых волшебным образом струится тремоло, рождающее все более настойчивые реплики-вопросы. И вот это уже мощный медный глас – глас неба. Да и вся симфония, что очевидно в потрясающе рельефной, почти сюжетной подаче казанцев – разговор между человеком и Господом. Трубы, тромбоны – конечно, представители горнего мира. Скрипки – голос человека. Он же – голос любви, единственного, в чем человек равен Создателю. Гобой и валторна в таинственном отдалении – словно ночные птицы, свидетельницы этой любви. Грустная колыбельная у кроватки младенца – случайно ли эта тема так напоминает блоковско-свиридовскую «Богоматерь в городе», до которой от Брукнера еще целое столетие?.. И снова мы среди облачных громад и громов, снова – Божий вопрос к человеку, выливающийся в огромную волну-проповедь, в хоралы дерева, меди, в обжигающе холодное тутти, суровостью похожее на средневековые церковные хоры.
Потрясающая картина жизни – какой же космической многокрасочностью и строжайшей дисциплиной групп надо обладать оркестру, чтобы так ее подать, а дирижеру – демиурговой волей, чтобы выстроить!
И так – во всей трехчастной партитуре. В скерцо, рождающем образ вулканического кипения (однако какая струнная теплота в романтической середине!). В адажио, зачинаемом с гигантского вдоха струнных, неспешно, но неотвратимо возводящем душу к экстатическому созерцанию мироздания как архитектуры неохватной высоты и нерушимой чистоты линий. И снова удивительная своей русскостью ассоциация: не та же ли красота вечных основ жизни, над которой не властны никакие земные беды, слышится в медленных эпизодах Седьмой симфонии Шостаковича? А печальная улыбка прощания (Брукнер знал, что умирает и вслед за этим адажио уже больше ничего не напишет) не отзовется ли впоследствии в трагических финалах Восьмой, Четырнадцатой, Пятнадцатой симфоний нашего великого мастера?
Интересно, имел ли в виду столь далеко идущие параллели Сладковский? А впрочем, какая разница – так или иначе, оркестр из Казани расширил вселенную Брукнера до масштабов всей мировой музыки. Может ли какой-либо исполнитель достичь более высокого художественного результата?
Источник:
« назад